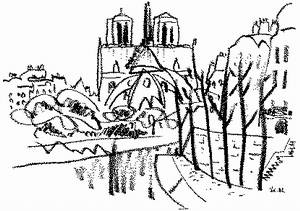 В одной из комнат было сотни две матрешек разных размеров, но
скопом они являли непритягательное зрелище. Зорин зло бросил:
"Мне казалось, что они давно вышли из моды".
В одной из комнат было сотни две матрешек разных размеров, но
скопом они являли непритягательное зрелище. Зорин зло бросил:
"Мне казалось, что они давно вышли из моды".
Номер 45 (738), 12.11.2004
Игорь ПОТОЦКИЙ
Повесть
(Продолжение. Начало в №№ 29-34, 36-38, 40-44.)
15
В Париже на этот раз Путник познакомился с профессором из Питера Сергеем Зориным. Он преподавал философию в Сорбонне, вернее, вел семинар по Бердяеву. Они пошли вместе в Российский культурный центр, а там готовились к приему какого-то чиновника из посольства – наводили блеск, а когда этот чиновник появился, Путника поразило обилие льстивых улыбок, обращенных в его сторону. Все сотрудники при виде его подтягивались, как рядовые при генерале, а он разговаривал, как большой барин, сыпал плоскими шуточками, но все его собеседники натянуто смеялись. У Зорина в глазах стояла тоска, и он сказал: "Видишь, Путник, все осталось по-прежнему".
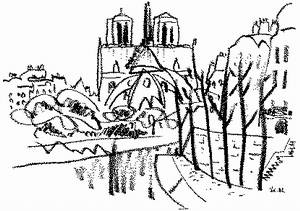 В одной из комнат было сотни две матрешек разных размеров, но
скопом они являли непритягательное зрелище. Зорин зло бросил:
"Мне казалось, что они давно вышли из моды".
В одной из комнат было сотни две матрешек разных размеров, но
скопом они являли непритягательное зрелище. Зорин зло бросил:
"Мне казалось, что они давно вышли из моды".
У Зорина были какие-то дела в центре, но он с ними быстро управился, а потом они взяли такси и поехали на площадь Вогезов. По этой площади, как и в прошлые века, сновали дети, а за ними присматривали молоденькие гувернантки, на которых заглядывались проходящие мужчины. Путник и Сергей неторопливо прогуливались по площади. Путнику запомнилась произнесенная Зориным цитата из Паскаля: "Человек не ангел и не животное, и несчастье его в том, что чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное".
Зорин напоминал московского композитора Сергея Беринского, с которым Путник успел подружиться во время его коротких наездов в Одессу. Он был мудрым, но и каким-то юным, озорным, всем другим предпочитал компании молоденьких женщин с острыми коленями и умными лицами. С ними он быстро находил общий язык, преображаясь в утонченного ловеласа, постоянно вспоминающего строки Данте или Петрарки. К тому же он был великолепным композитором, и в его произведениях звуки брали любые преграды, достигали звезд, а потом музыка, словно низвергнутая с небес, медленно оседала на землю. Он не так давно умер, а Путник, узнав о его кончине, загрустил, словно потерял точку опоры, найденную им прежде с большими тяготами. Потом эта грусть исчезла – умчалась под ветерком вместе с облаками, но музыку Беринского он продолжал слышать, и часто ему вспоминалась последняя встреча с композитором на Дерибасовской, в самом центре Одессы. Сергей был с двумя девушками, остроумно шутил, предлагал им поменять место обитания – побродить с ним между звезд, а они смеялись и соглашались на такую прогулку. Путнику нравились странные люди, а Беринский был именно таким человеком, и открывать его мысли было любопытно. Он не любил одиночества, часто шутил, что его самая неисполнимая мечта – купить себе фетровую шляпу большого размера, надвинуть на глаза и отключиться, но самые заветные фантазии, по его словам, никогда не имели желания исполняться, так что такую шляпу он так и не приобрел.
Озвучивала ли музыка Беринского какой-нибудь период в жизни Путника? Пожалуй, на этот вопрос можно ответить отрицательно или, что лучше, просто его проигнорировать. Сонаты, кантаты, ноктюрны композитора были слишком бурными, неуравновешенными, а Путник искал в музыке спокойствия, пытался отключиться, поэтому к музыке москвича он, один раз ее прослушав, никогда не возвращался. Но некоторые его фразы ему запомнились своим бесшабашным напором: "мы созданы для постоянного движения", "энергия нас заставляет спешить и делать неразумные поступки, но в конце концов мы их оправдываем", "еврейское счастье всегда грозит неотвратимою бедой".
В тот вечер Путник и Зорин зашли к Николаю Дронникову. Художник встретил их приветливо, и потекла неторопливая беседа о смысле жизни, о постоянных мытарствах творческого человека, сознательно лишающего себя комфорта. Зорин порой слишком горячился, а Дронников останавливал его простой и ясной улыбкой, говорившей, что не следует слишком большой смысл вкладывать в слова, когда есть работа, но мастерство ничего не значит, когда внутри тебя не существует пламени. Потом Николай повел их посмотреть свои последние картины, посвященные Парижу, где было много печали, такой ощутимой в мостах, в Сене, в зданиях над ней, что Путнику хотелось заплакать, но он сдержался. В сущности, последние дронниковские работы были о быстро убывающем времени, о том, что человеческая жизнь отнюдь не вечна, что не следует этого забывать, ведь здание можно отреставрировать, придать ему новый блеск, а тело клонится к закату, и с этим ничего не поделаешь.
И Зорин стоял опечаленным рядом с картинами Николая. Губы его дрожали, словно складывали молитву, словно он пытался заговорить свое отчаянье, но слова этого не могли сделать. И тут Путник удивился неожиданно возникшей в нем музыке Беринского; морские волны гулко бились о скалистый берег; жизнь шла наплывами; ночь становилась огромной, а день мельчал; маленький трубач обращался к своей любимой – конкретной женщине. Никто, кроме Путника, не слышал этой музыки, а ему было удивительно, что Дронников и Зорин громко разговаривают, но он все больше и больше восхищался сонатой Беринского, а все остальное растворилось в звуках маленького трубача, играющего свое возвышенное соло.
(Продолжение следует.)
Одесса, 2003 г.
Рисунок Николая Дронникова (Париж).